Гаврюшин Н.К. К.Э. Циолковский о научном и художественном творчестве.
Для К. Э. Циолковского — мыслителя и творца, писателя и изобретателя — характерно не только разнообразие сфер деятельности, но и постоянное стремление проникнуть в сущность творческого процесса, найти общие закономерности и отличительные особенности художественного и научного творчества, понять своеобразие их функций в общественном развитии. История знает довольно мало случаев гармонического сочетания счастливого и продуктивного вдохновения, представляющего непосредственную и необходимую сторону всякого подлинного творчества, и постоянной рефлексии над ним, «самоподсматриваний» и «самоподстереганий», относящихся уже не к самому творчеству, а к его теории. Хотя и трудно утверждать, что Циолковскому удалось добиться в этом отношении полной гармонии, стремление к ней как тенденцию его творческой биографии нельзя оставить в стороне.
По-видимому, прежде всего целесообразно остановиться на общих закономерностях творческого процесса, равно присущих как художественному, так и научному творчеству.
Различая внутренние и внешние условия творческого процесса, Циолковский выявляет среди первых состояние восторженности, вдохновение, увлеченность и сосредоточенность [1, с. 118; 2, л. 6; 3, л. 9], в связи с чем делает попытку разъяснить муки творчества:
«Говорят еще про „муки творчества». Что же это за муки и каково их происхождение? Творчество требует сосредоточения на определенной группе идей. Остальные должны быть забыты. Поэтому чем уже пределы нашего творчества, чем они отвлеченнее, чем дальше от обыденной жизни, – тем сильнее муки этого процесса; хотя, с другой стороны, они вознаграждаются отчасти усиленной деятельностью частной группы мыслей. Наоборот, чем ближе к окружающей нас жизни наша работа, чем она ближе к земле, чем большую сумму обыденных мыслей захватывает, тем „муки» слабее и даже, во многих, случаях, превращаются в радостное чувство» [4, с. 10].
Таким образом, по Циолковскому, муки творчества вызываются не самой сосредоточенностью и концентрацией, а абстрактностью и отвлеченностью предмета концентрации, ослабляются же по мере конкретизации и уяснения путей практической реализации творческого замысла[1]. При этом особенно подчеркивается инспирирующая, побудительная функция страданий[2].
Последний тезис заставляет констатировать противоречивый характер отношения Циолковского к внешним условиям творческого процесса: с одной стороны, страдания, являющиеся результатом неблагоприятных внешних условий, могут иметь позитивное значение, с другой — для творчества необходима спокойная, свободная от постороннего шума атмосфера; свободнее и лучше всего оно будет протекать в эфире [1, с. 244].
Эта противоречивость отражает, однако, диалектику творческого процесса, совершающегося во взаимодействии и неразрывном единстве свободы и необходимости [10, с. 344—356; 11, с. 396—398], что и демонстрирует Циолковский в повести «Вне Земли», описывая ученых, работающих в удаленном замке: «Разочарование в людях и радостях жизни загнало их в это уединение. Единственной отрадой их была наука… Они были баснословно богаты и свободно удовлетворяли все свои научные прихоти» [1, с. 117; см. также с. 122. – разрядка наша. – Н. Г.].
В этой же повести Циолковский в художественной форме воссоздает коллективный творческий процесс, особая продуктивность которого вызвана удачным сочетанием творческих индивидуальностей [там же, с. 122—123], и дает понять, что подлинное научное творчество неотделимо от популяризации научных знаний, педагогической деятельности, которая также должна носить творческий характер [там же, с. 125—130 и др.].
В логической связи с этой мыслью находятся идеи Циолковского о важности самостоятельной творческой активности учащихся, к которым его подталкивал и анализ собственной биографии. Он учился, творя: «считал более легким для себя доказать теорему без книги, чем вычитывать из нее доказательство» [12, л. 3 об.]. Отметим, кстати, что Циолковский попытался проследить логику развития собственных научных интересов в своеобразной художественной автобиографии [13, л. 5—14 об.], в которой, как и в повести «Вне Земли», вывел себя под именем Иванова.
Циолковский обратил внимание на проблему соотношения непрерывного и дискретного в творческом процессе и в процессе восприятия результатов творчества, хотя и не разработал ее подробно.
«Человек так устроен и так живет,— пишет он,— что погашает свои желания скачками через некоторые промежутки времени. В течение их происходит „заряжение» с последующим приятным и быстрым „разряжением»» [14, с. 11]– и далее строит теорию физиологического механизма этой дискретности. А в работе [15] он отмечает: «Но нельзя же непрерывно читать и испытывать необыкновенные впечатления. И музыка, и зрелища, и книги не всегда возбуждают, а только моментами, сравнительно короткими» [15, л. 4][3].
Уяснение же соотношения непрерывного и дискретного заставляет придавать особое значение категории меры: «меру знать — всего труднее» [15, л. 6—7] (ср. [4, с. 12]). К общим закономерностям творческого процесса относится также последовательность этапов творческой деятельности. Для Циолковского в этом направлении характерно стремление выявить единство исторического и логического, филогенетического и онтогенетического аспектов. Особенно рельефно оно проявляется в работе [19].
Первоначально Циолковский распределяет различные этапы реализации идеи между многими творческими личностями;
«В открытии нередко участвует несколько человек. Прежде чем получить окончательную форму, оно питается такими предшественниками.
1. Фантазер, возбуждающий мысль и желание осуществить ее. Таковы талантливые сказочники без всякого образования и с образованием. 2. То же, но с более умеренной фантазией. Примеры: Жюль Верн, Уэльс, Эдгар По, Фламмарион.
3. Даровитый мыслитель, независимо от своего образования.
4. Составитель планов и рисунков.
5. Моделисты.
6. Первые неудачные исполнители.
7. Осуществление» [19, л. 2][4].
Однако практика собственной творческой деятельности подталкивала Циолковского к мысли о возможности объединения всех этих этапов в трудах одной личности: ведь и сам он зачастую, прежде чем приступить к научной разработке какой-либо проблемы, занимался ее образно-художественным моделированием в научно-фантастических произведениях, в чем отдавал себе полный отчет: «Много раз я брался за сочинения на тему „Космические путешествия», но кончал тем, что увлекался точными соображениями и переходил на серьезную работу» [21, с. 350]. Поэтому в приводимом отрывке из работы [19] он продолжает:
«Иногда одно лицо проходит несколько этих этапов и даже — все. Но такое явление не часто.
Все эти выдающиеся люди не соединены ни временем, ни местом.
Для успешного хода изобретений и открытий хорошо бы их соединить для коллективной работы. Ведь все таланты, необходимые для открытия, так редко соединяются в одном человеке!
Общество, двигающее вперед человечество, должно жить вместе или часто собираться для совещаний. Верхний этап, т. е. этап фантазеров, выбирает из своей среды фантазии, которые они, по своей пылкости, считают наиболее основательными. Они отправляются в общество второго разряда, состоящее из людей менее увлекающихся» [19, л. 2—2 об.].
В этом фрагменте вновь обращает на себя внимание Предпочтение, оказываемое Циолковским коллективному творчеству, организуемому со строгим учетом индивидуальных возможностей творческих личностей (при этом нельзя не заметить, что предлагаемый Циолковским принцип постепенного отбора идей весьма напоминает основные положения получившего в послевоенные годы распространение в США «брейнсторминга»). Рассматриваемая статья завершается разработкой деталей социальной организации творцов новых идей и изобретений – темой, к которой Циолковский возвращался неоднократно (см. [3, 29 сл.], а также [23, с. 28-29]).
Склонный скорее дифференцировать, чем уравнивать людей по творческим способностям, Циолковский много внимания уделял природе и особенностям гения, его социальной функции.
Первое, что интересует Циолковского в отношении гениальной личности, – ее биологическая природа. «Хотя закон наследственности и существует,– писал он, – хотя он и неопровержим, но есть и другие законы, пренебрегать которыми тоже нельзя. По первому закону только даровитая, необыкновенная семья может дать необычное. И это верно относительно рода, хотя могут быть и исключения (мутации). Т. е. я хочу сказать, что род, дававший изредка знаменитых людей, продолжает их давать порою, хотя часто иссякает, благодаря неразумным или неудачным бракам. Например, предок Чарльза Дарвина (Эразм) и сын его (Джон) были людьми выдающимися» [24, л. 37—38]. Однако в целом гений оказывается такой узловой точкой в родовой цепи, которая требует длительного периода подготовки и за которой неизбежно следует спад: «…гений обирает свое потомство. Это значит, что за высшей точкой рода (кульминационный пункт) следует понижение и иногда весьма сильное» [23, л. 38].
Таким образом, очевидно, что хотя с внешней точки зрения «гении чаще всего бывают счастливой комбинацией супругов, которые сами по себе не очень высоки и совсем не гениальны» [там же], появление гениальной личности есть все же результат биологических и социальных усилий всего рода и приводит также как к положительным, так и к отрицательным последствиям для всего рода[5].
Отсюда с необходимостью следует, что отношение рода к гениальной личности должно быть максимально бережным, а деятельность ее должна быть по возможности максимально продуктивной — ведь в противном случае усилия этого рода пропадают зря. И поэтому вполне понятен пафос Циолковского, во многих работах остро поднимавшего вопрос о выявлении гениев и отношении к ним общества [2, 22, 26, 27 и др].
Из биологических аспектов анализа гениальной личности Циолковский останавливается также на размерах мозга, указывая, что данная характеристика является ненадежной, случайной и внешней. «Мозг талантов, как, например, у Гамбеты, часто меньше средней величины. Если у Кювье, Гельмгольца и других мозг весил больше среднего, то это объясняется склонностью их с самого детства к водянке головного мозга» [24, л. 60] (ср. [9, с. 29]). В другом месте Циолковский возвращается к этой теме и, утверждая, что «размах жизни, способность к страданию и радости, очевидно, пропорциональны сложности мозга и его величине» [14, с. б], настаивает на том, что «требуется усовершенствование человеческого мозга без умаления сознательности. При этом может произойти и увеличение объема мозга, и уменьшение. Последнее возможно, так как большая часть теперешнего человеческого мозга занята ненужными и даже вредными людям: свойствами, например страстями» [там же, с. 8].
Отрицательное отношение к «страстям» и связанным с ними страданиям, которое Циолковский высказывал неоднократно (ему импонировали «мыслящие машины») [1, с. 122], плохо вяжется с его теорией творчества. И если в одном месте он признает за страданиями лишь негативную функцию ослабления чувственности [там же], то гораздо чаще, особенно обращаясь к психологическому аспекту творчества, он указывает на их позитивное, стимулирующее значение.
«Кроме того (наследственного фактора.— Н. Г.), гений развивается и под давлением жизненных условий, часто непонятных и как бы отрицательных. Так, сиротство, нищета, презрение людей за какой-нибудь физический недостаток и т. д. возбуждают силы, мысль и деятельность» [24, л. 38]. Эту мысль укреплял в Циолковском и углубленный самоанализ: «Я думаю, во мне получили соединение сильная воля отца с талантливостью матери. Почему же не оказалось то же у братьев и сестер? Возможно, потому, что они были нормальны и счастливы. Меня же унижала глухота, бедная жизнь и неудовлетворенность. Они подгоняли мою волю, заставляли работать, искать» [28, с. 17].
В другой работе, отмечая, что «неудовлетворенные желания и разные препятствия заставляют работать усиленно то те, то другие части мозга, отыскивать выходы, которые никто ранее не находил» [14, с. 12—13][6], Циолковский приближается к пониманию диалектики сознательного и бессознательного[7], биологического, психологического и социального факторов в творчестве. «Не всякого лишения приводят к социальным знаниям, — пишет он,— а только богатую умственную натуру… Более всего нужно испытать лишения сильным и обеспеченным» [там же].
К психологическим факторам творчества относится также односторонность развития личности и зачастую нравственные недостатки: «Таланты и гении большею частью бывают односторонни: одни их способности развиваются за счет умаления других. В жизни они иногда слабее и ограниченнее всех [24, л. 58] (ср. [24, л. 55]),— пишет Циолковский, приводя далее ряд примеров (Пушкин, Ларошфуко, Жорж Санд, Шопенгауэр),—и продолжает: Кроме обыденных недостатков, свойственных всем людям, гении, в силу своего сосредоточения и своего таланта, имеют еще особенные специальные недостатки. Они рассеянны[8]. Увлеченные своей идеей, они пренебрегают приличиями, близкими и жертвуют всем, лишь бы восторжествовала их мысль. Их часто не останавливает преступление, гибель множества, когда дело идет об исполнении их любимой цели» [там же, л. 58—59]. В качестве примера он приводит Лапласа, Саллюстия, Сафо, Карлейля, Некрасова и др.[9]
Еще один психологический (и биологический) аспект анализа творческой личности — это своеобразие темпов ее развития, отсутствие прямой корреляции между темпами развития и их внешними проявлениями. Ссылаясь на исследования Оствальда и приводя ряд примеров, Циолковский писал: «Гении развиваются рано, но они не выделяются официально своими успехами в школе» [24, л. 61] (ср. [9, с. 30—31; 26, с. 13]) [10].
Больше того, школа зачастую оказывается тормозом в развитии гения, поскольку косность ее структуры не позволяет учитывать индивидуальный характер развития каждого ученика. «Горе было бы старинным талантам,— продолжает Циолковский,— если бы они жили в наше время. Многие бы из них не прошли жизненного и школьного искуса. (Что, конечно, не говорит о его совершенстве.)» [24, л. 61]. От ученых, писал Циолковский в другой работе, «не требуют ни открытий, ни изобретений, а только знания уже установившейся науки. Таким образом, с помощью экзаменов отбираются люди не с творческим талантом, а с огромною наклонностью к восприниманию» [26, с. 13]. В то же время у гениев «восприимчивость (т. е. подражательность, память) вообще нужно признать более слабой, чем у ученых» [там же].
Обращаясь к анализу отношений гения и общества, необходимо прежде всего отметить, что Циолковский здесь, по его собственным словам, вынесенным в подзаголовок работы [22], имеет в виду «несовершенный общечеловеческий строй жизни», как-либо расчленить который в 1918 г. ученый еще не мог. Данный анализ строится им на основе выделения различных уровней социального окружения творческой личности. Первый, ближайший уровень – это семья. «Жены, семьи, братья, родственники всего менее верят в своего гениального члена и судят о нем обыкновенно по внешним успехам, которые сначала бывают очень сомнительны и даже отрицательны» [24, л. 39]. В семье, конечно же, озабочены здоровьем и благополучием таланта, но именно эта озабоченность и мешает его духовной деятельности:
«Итак, в семье: любовь, заботы, снисхождение, слезы, но полное непонимание; страх за судьбу любимого, обуздание, а иногда невыносимая жизнь. Вот почему гений бежит от семьи, оставляет отца и мать, оставляет родню и близких, чтобы найти друзей по духу, которые и идут с ним на муки, на посмеяние, на костер и на казнь. Семья тормозит истинного гения, и только в виде исключения он иногда находит сочувствие или поддержку родни» [там же].
Следующий уровень социального окружения творческой личности, на котором останавливается Циолковский, — это «земляки». «Земляки и товарищи гения,— писал он,— в отношении понимания относятся к нему, как и родственники, недостает только любви и снисхождения (родственного пристрастия), да прибавляются зависть и недоброжелательство» [там же, л. 40].
Однако это непонимание со стороны представителей ближайших уровней социального окружения имеет свою позитивную сторону, поскольку способствует сосредоточению, концентрации мыслителя; а позднее, когда решение проблемы им найдено, появляется возможность восстановить равновесие в отношениях с этими уровнями путем популяризации идеи.
«Отрицательное отношение окружающих заставляет новатора замыкаться в самом себе. Следующая его гениальная идея уже не высказывается им никому. Он размышляет уединенно. Мир необычных идей в нем растет, усиливается, приводит его в восторг, дает ему жизнь, утешение, радость, поддержку в житейских печалях. Чем больше проходит времени, тем обширнее воображаемый мир гения, тем больше растет его отчуждение от человечества… Отчуждение это причиняет ему страдание, он счастлив наедине и печален среди людей. Он напрягает мысль, чтобы снова приблизиться к людям, сойтись с ними. Он придумывает что-нибудь легкое, доступное им, он спускается к их уровню развития» [там же, л. 43—44].
Этот процесс, естественно, заканчивается появлением учеников и последователей, причастных миру идей гения, но одновременно более близких обыденному уровню сознания и потому способных передавать и популяризировать его мысль. «Последователи ниже его и потому ближе к жизни и людям. Ученики учеников еще ближе. Так доходит истина, хотя и в ослабленном и смутном свете, до людей» [там же].
Однако это лишь один из возможных вариантов передачи гением своих идей обществу. В большинстве же случаев творческая личность, избравшая полем своей деятельности науку и технику, сталкивается с проблемой признания своего открытия обществом, осуществляющим данную функцию с помощью специалистов.
Здесь нужно заметить, что сами гении отнюдь не всегда принадлежат к специалистам. «Нет большего заблуждения, как думать, что гении и мыслители, двигающие науку и прогресс, выходят из дипломированных ученых и специалистов своего дела» [там же, л. 55] (ср. [26, с. 13]), – писал Циолковский, приводя в качестве примера Леонардо да Винчи, В. Гершеля, Кулибина, Менделя и др. (ср. [9, с. 31])[11]. Это и неудивительно – ведь для открытия необходима известная свобода от устоявшихся представлений и трафаретов мысли, в плену которых находятся специалисты.
Специалисты зачастую не только не могут сами совершить открытие, но затрудняются признать уже сделанное, что связано как со стандартностью и авторитарностью их мышления (см. [26, с. 15—18]), так и со стремлением поддержать свой социальный статус — ведь, признав открытие, они отодвигают себя как специалистов на второй план.
«Обыкновенно, — пишет Циолковский, — капиталисты поручают суждение об изобретении специалистам или ученым. Они сильны в науках и технике, сдали соответствующие испытания и доказали свою авторитетность своими полезными трудами и даже открытиями. Но те же специалисты никогда не сдают экзамена в добросовестности, в бескорыстии, в высшем благородстве образа мыслей» [24, л. 49—50] (ср. [26, с. 19]).
Кому же поручить суд над открытиями? «Судить людей, в особенности высших, могут только избранные, соединяющие в себе чистое, беспристрастное сердце с обширным разумом, талантами, свежестью и многосторонними знаниями»,— считал Циолковский [24, л.57].
Рассматривая общие закономерности деятельности творческой личности, мы, следуя за Циолковским, имели в виду главным образом научно-техническое творчество. Собственно художественному творчеству Циолковский уделял существенно меньше внимания, причем в основном интересовался его связью с научным.
Проблема происхождения искусства затронута кратко в работе [36]. Циолковский здесь развивает мысль, что побудительным импульсом к художественному воспроизведению действительности служит отсутствие необходимых или желанных предметов. «Когда было мало этих вкусных вещей (плодов, животных и т. п.—Н. Г.), человек лепил их из глины и чувствовал некоторое удовлетворение. Иногда он чертил палкой фигуры полезных предметов на земле, кремнем — на дереве, на нетвердом камне, на мягкой глине. Он изображал своим голосом или дудочкой звуки, издаваемые животными. Отчасти это было приятным воспоминанием, отчасти служило для приманки дичи во время охоты. И вот начало письменности и искусств: скульптуры, живописи и музыки» [36, л. 41—41 об.].
Таким образом, собственно утилитарное начало в возникновении искусств Циолковский как бы отводит на второй план. Больше того, он отмечает необходимость определенной степени свободы от утилитарных нужд для художественного творчества: «Когда пищи было в изобилии и заботы о ее добывании не было, накоплялись силы, которым не было выхода. Это накопление сил заставляло людей совершать движения, соответствующие охоте, борьбе, рыбной ловле и другой деятельности, направленной во время нужды к борьбе за существование. Так зародились танцы. Они также были средством устрашения врагов и привлечения женщин, так как указывали на присутствие сил, полезных при борьбе за существование» [там же].
Резюмируя идеи Циолковского, можно сказать, что художественное творчество разрешает противоречия между действительным и возможным бытием индивидуума — как в плане компенсации в предметном, так и в деятельном бытии: оно приводит к равновесию как физиологическое, так и психологическое состояние индивидуума. Конечно же, точка зрения Циолковского, выраженная весьма фрагментарно, явилась плодом интуиции, не подкрепленной специальным исследованием, и должна рассматриваться как таковая.
Взгляды Циолковского на художественное творчество были несколько конкретизированы и углублены в работе, посвященной происхождению музыки [37]. В ней инструментальная музыка генетически возводится к пению[12], которое в свою очередь появляется лишь с возникновением членораздельной речи:
«Обыкновенно сначала выучиваются говорить, а потом уже возникает чувствительность к музыке»,—писал ученый [37, л. З]. Однако очевидно, что без зачатков музыкального слуха возникновение членораздельной речи было бы невозможно, и Циолковский прибавляет: «первые слова были звукоподражательными, т.е. были первобытной музыкой» [там же][13].
По-видимому, не без влияния Дарвина он рассматривает пение как один из факторов полового подбора [37, л. 4][14] и считает непосредственным источником музыкального творчества избыток сил при половом созревании [там же, л. З]. «Пение вызывается больше всего полным созреванием, избытком сил созревшего тела, сопутствует половой деятельности и потому более всего относится к половой сфере». «С удовлетворением полового чувства, — приписывает Циолковский на полях,— или с браками наклонность к пению ослабляется: избыток сил идет на размножение» [там же, л. 4][15].
Заслуживает также упоминания невзначай брошенное Циолковским замечание, что музыка—«это забытый язык», со ссылкой на учение Сократа о познании как воспоминании [там же, л. З].
Главное же, что привлекает внимание Циолковского к музыке,— это ее катартическое, очистительное воздействие, способность приводить в равновесие человеческую психику. Музыка, писал он, «разряжает напряженное состояние чувств. В противном случае она —непроизводительный расход душевных сил» [там же, л. 5] (ср. [14, с. 16], а также [38, с. 143]). «Музыка,— продолжает он,— есть сильное, возбуждающее, могучее орудие, подобное медикаментам. Она может и отравлять и исцелять. Как медикаменты должны быть во власти специалистов, так и музыка» [37, л. 5][16]. Продолжая традицию тех многочисленных мыслителей, которые искали строгих соответствий между музыкальными созвучиями и ритмами и вызываемыми ими (вызывающими их) чувствами[17], Циолковский предсказывает, что «музыка вступит в новую фазу тогда, когда мы произведем строгую сортировку музыкальных фраз и против каждой из них, выраженной нотами той или иной длины и содержания, поставим название вызываемого ей чувства. Кроме того, каждая музыкальная фраза будет иметь определенное значение как медицинское средство при лечении душевнобольных и в других случаях» [там же, л. 5-6].
Так же преимущественно в социальном плане Циолковский размышлял и о других формах искусства. Так, он указывает на социально-психологическое значение научно-фантастической литературы, подготавливающей общество к восприятию новых научных идей. Еще шире и глубже, по его мнению, влияние кинематографа, представляющего «высшую степень художественности» [21, с. 351].
В целом художественное творчество, по Циолковскому, представляет интерес прежде всего как необходимый момент в становлении научного знания или рождений технического изобретения. В этом смысле оно исторически и логически связано с наукой» питает ее новыми идеями. Наука же, по мере исторического развития претворяя в действительность возникшие в художественном творчестве идеи, является непосредственной формой осуществления господства человека над природой и освобождения мира от страданий. Единая социальная функция искусства и науки заключается в том, что они являются одновременно средством и целью в достижении всеобщего морального и материального благополучия, свободного, творческого развития каждого индивидуума.
ЛИТЕРАТУРА
1. Циолковский К. Э. Вне Земли// Путь к звездам. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 117—247.
2. Циолковский К. Э. Воображение (или цена мысли),//Архив АН CCCР, Ф. 555. On. 1. Ед. хр. 418.
3. Циолковский К. Э. Мысль и изобретение// Изобретатель и рационализатор. 1980. № 6. С. 40.
4. Циолковский К.. Э. Нирвана. Калуга, 1914.
5. Арнаудов М. Психология литературного творчества. М.: Прогресс, 1970. 653 с.
6. Горнфельд А. Г. Муки слова. М.; Л.: ГИЗ, 1927. 224 с.
7. Медведев П. В лаборатории писателя. Л.: Сов. писатель, 1971.
8. Лапшин И. И. Философия изобретения и изобретение в философии. Пг.,. 1922. Т. 1. 194 с.; Т. 2. 228 с.
9. Блох М. А. Творчество в науке и технике. Пг., 1920. [б], 64, [1] с.
10. Шеллинг Ф. В. Система трансцендентального идеализма. М.; Л., 1936.
11. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М.: Мысль, 1966.
12. Циолковский К. Э. Автобиография// Архив АН СССР. Ф. 555. On. 2. Ед. хр. 2.
13. Циолковский К. Э. Философия знания// Там же. Оп. 1. Ед. хр. 381.
14. Циолковский К. Э. Ум и страсти. Калуга, 1928.
15. Циолковский К. Э. Радость и страдание// Архив АН СССР. Ф. 555. On. 1. Ед. хр. 434. С. 3.
16. Pascal. Pensées. P., 1964.
17. Вельтман А. Ф. Странник. М., 1840.
18. Гете И.-В. Избранные философские произведения. М.: Наука, 1964.
19. Циолковский К. Э. В каком порядке происходит открытие или изобретение// Арх. АН СССР. Ф. 555. On. 1. Ед. хр. 521. С. 4, 5.
20. Гаврюшин Н. К. Космический полет — логика развития художественной я научной идеи от античности до XX в.//Из истории авиации и космонавтики. М.: ИИЕТ АН СССР, 1972. Вып. 16. С. 12—20.
21. Циолковский К. Э. Только ли фантазия ?// Путь к звездам. М.,Изд-во АН СССР, 1960. С. 350—351.
22. Циолковский К. Э. Горе и гений. Калуга, 1916.
23. Фаддеев Е. Т. К. Э. Циолковский и некоторые проблемы науковедения// Труды VII Чтений К. Э. Циолковского. Секция «Исследование научного творчества К. Э. Циолковского». М.; ИИЕТ АН СССР, 1973. С. 22—35.
24. Циолковский К. Э. Гений среди людей//Арх. АН СССР. Ф. 555. On. 1. Ед. хр. 395.
25. С[оловьев] Вл. С. Гений// Энциклопедический словарь/Брокгауз и Ефрон. СПб., 1892. Т. 8.
26. Циолковский К. Э. Моя пишущая машина. Двигатели прогресса. Калуга, 1928. .
27. Циолковский К. Э. Судьба мыслителей//Арх. АН СССР. Ф. 555. On. ‘1. Ед. хр.426.
28. Циолковский К. Э. Черты из моей жизни//Там же. Оп. 2. Д. 14. Л. 1—29об.
29. Ранк О., Загс Г. Значение психоанализа в науках о духе. СПб., 1914.
30. Шерозия А. Е. К проблеме сознания и бессознательного психического. Т. 1—2. Тбилиси: Мецниереба, 1969—1973. Т. 1. 382 с.; Т. 2. 522 с.
31. Розанов В. В. Опавшие листья. Короб. 1. СПб., 1913. 526, VIII с., 4 л. ил.
32. Флоренский П. А. О типах возрастания. Сергиев Посад, 1906. 39 с.
33. Проблемы научного творчества в современной психологии. М.: Наука, 1971. 334 с. М. Модестов А. П. Замечательные работники науки и техники. М., 1927. Т. 1, вып.1.
35. Зотов В. С. У истоков космической эры. Калуга, 1962.
36. Циолковский К. Э. Развитие тела и души//Арх. АН СССР. Ф. 555. Оп. 1. Ед. хр. 375.
37. Циолковский К. Э. Происхождение музыки и ее сущность// Там же. Ед. хр. 472.
38. Спенсер Г. Происхождение и деятельность музыки// Спенсер Г. Научные, политические и философские опыты. СПб., 1866. Т. 1.
39. Вагнер В. Генезис и развитие музыки// Вопр. философии и психологии. 1895. Кн. 28. С. 275—312.
40. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII—XVIII вв. М.: Музыка, 1971. 688 с.
41. Дарвин Ч. Происхождение человека и половой подбор//Соч. М.: Изд-во АН СССР, 1953. Т. 5. С. 119—656.
42. Мечников И. И. Сорок лет искания рационального мировоззрения. М., 1913. [4], 291 с., 1 л. портр.
43. Античная музыкальная эстетика. М.: Музгиз, 1960. 304 с., 11 л. ил.
44. Krämer /. Die Stellung des Musischen im philosophischen und politischen Denken Platons: Diss München, 1969.
45. Lenoble R. Mersenne ou la Naissance du Mécanisme. P., 1943. LXIII, 633 p.
46. Толстой Л. Н. Крейцерова соната// Собр. соч. Т. 12. М.: Худож. лит-ра, 1964, с. 132—211.
[1] Проблема концентрации в творческом процессе и сопровождающих ее «мук творчества» освещена на интересном фактическом материале М. Арнаудовым {5, с. 468—478}. Большой материал приведен также в современной К. Э. Циолковскому и сохраняющей свое значение работе А. Г. Горнфельда [16, с. 158—172]. [2] Довольно прохладно относились к подобным идеям современники Циолковского. «Страдания,— писал И. Лапшин,— сами по себе не могут быть причиною творческой продуктивности; они иногда могут быть лишь косвенными поводами, благоприятствующими изобретательности» [8, т. 1, с. 21]. «Если бы нужда и потребность одни были бы такими могучими импульсами для творчества,—отмечает М. Блох,—то эскимосы должны были бы быть творцами и изобретателями» [9, с. 26]. Однако на стороне Циолковского устойчивая традиция: «Ingenium mala saepe movent” (Ovid, Ars amat., II, 43); “It is not learning, grace nor gear,/ Nor easy milk and drink,/ But sudden pitch of pain and fear/ That makes creation think” (R.Kipling, The Benefactors). [3] К аналогичному обобщениюНа портале опубликовано с разрешения автора.

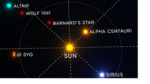

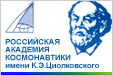
Написать ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.