Поэсис русского космизма: космическая драма отвлеченных начал
О.Д.Куракина
Всякая культура пронизана поэсисом космоса, хотя творческая деятельность становления космоса различных народов может существенно различаться. Более того, если представление о мире одного и того же народа в процессе исторического развития будет меняться, то изменение соответственно претерпит и поэсис космоса. Попытаемся наметить некоторые первичные ориентиры для выявления тех элементов, мотивов, тем, в отечественной культуре, которые с наибольшей очевидностью могут дать нам представление о поэсисе, образно-символическом творящем начале мира русского космизма.
Элементы космизма, которые с наибольшей очевидностью могли бы способствовать уяснению сути отечественного видения мира — каковы они, где их искать? Начнем с поэзии, ибо поэты как никто более “способны в слове уловить оттенки чувства и воленья”. Русская поэзия, по мнению составителя сборника философской лирики русских поэтов XVIII — начала XX века В.М.Фалеева, вобравшая в себя дух и воплотившая в слове “все главные философские системы, которые разрабатывались в Европе и России”[i], конечно, может нам дать предварительный материал для обсуждения этого первичного вопроса.
Космические мотивы в поэзии
Как обозначить тот мощный дух, что водил пером Гавриила Романовича Державина, когда он писал поэму “Бог” (1784 г.)[ii].
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Кого мы называем Бог.
И вот, вслед за панорамой Божественного мироустройства, появляется Его творенье — человек:
“Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!”
Разве это не космический дух? — Пока не ясно, но то, что это “космическая” поэзия или, точнее, космическая тема в поэзии, космический мотив, вряд ли у кого вызовет сомнение. На вопрос: “Но что мной зримая вселенная, и что перед тобою я?“ — дается ответ, для которого пока нет достаточного опыта души, а отсюда нет критерия для различения, можно лишь сопоставить с такой же заявкой на “вселенность” в поэме Максимилиана Волошина (1877–1932) “Космос” (1923 г.)[iii]:
“Созвездьями мерцавшее чело,
Над хаосом поднявшись, отразилось…
И брызнул свет. Два огненных луча,
Скрестясь в воде, сложились в гексаграмму…
Господь дохнул на преисподний лик,
И нижний оборотень стал Адамом.
Адам был миром, мир же был Адам.
Он мыслил небом, думал облаками,
Он глиной плотствовал, растеньем рос…
И было все — вверху, как и внизу —
Исполнено высоких соответствий”.
И у Державина поэсис космоса, и у Волошина, но первый переживает и соответственно описывает свое отношение к Творцу как православный христианин:
“Твое творенье я, Создатель!
Твоей Премудрости я тварь.
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!
Неизъяснимый, Непостижный
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить”.
А вот каков итог поэмы Волошина, которую если бы не стихотворная форма, вряд ли можно было бы отличить от философского эссе, посвященного картине устройства мира, или точнее, истории смены взглядов на картину мира, такими разительно контрастирующими с предыдущими строчками дерзкой “самости”:
Так будь же сам вселенной и творцом. Сознай себя божественным и вечным. И плавь миры по льялам душ и вер. Будь дерзким зодчим вавилонских башен Ты, заклинатель сфинксов и химер”.
Один узрит в космическом бытии любовь Бога-Отца, “Творца Небу и Земли, видимым же всем и невидимым”, и человека — творенье Божие, сохранившего свое сыновство и припадающего к стопам Отца; другой — шаг за шагом описывает отпадение человека от своего Первообраза, запечатленного в Адаме, после созиданья Демиургом мира.
И здесь и там поэсис космоса, и здесь и там космос, но как они отличны друг от друга, у каждой эпохи свой космос, а значит свой космизм. Но разве хоть чуточку изменился “бег светил”, да нет – мир все тот же, другим становился человек, по другому начинал видеть этот мир, а следовательно претерпевает изменение и космизм, как представление о мире в его целостности, включающей как Творца, так и его творение. Державин оставляет потомкам свидетельство об одном поэтическом образе мира, Волошин 250 лет спустя повествует уже о совсем иной мифологеме, в которой нет более христианского понимания трансцендентности Творца и, как следствие, появляется дерзновенная гордыня человека, вознамерившего себя поставить на освободившееся место. Отсюда и два различных названия для поэсиса — “христианский теокосмизм”, или теоантропокосмизм, и “демиургический антропокосмизм”. Как Державин не одинок в своем устремлении, так и Волошин: под космосом Державина подпишутся и А.С.Хомяков, и все поэты-любомудры, и Ф.И.Тютчев и даже А.С.Пушкин[iv] и др. К Волошину примкнут Александр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов, практически все символисты.
В одном из вариантов своей автобиографии Волошин пишет об этом духовном родстве, как “в разных концах России несколько русских мальчиков, ставших поэтами и носителями ее духа” (Блок в Шахматовских болотах, Белый у стен Новодевичьего монастыря, и сам он в степях и пустынях Туркестана), на рубеже веков, в год “Трех разговоров” Владимира Соловьева и его письма о конце Всемирной Истории (1900 г.), “явственно и конкретно переживали сдвиги времен”[v]. И здесь совсем не случайна ссылка на Соловьева. А.Белый — в своих воспоминаниях о Блоке пишет о эзотерических собраниях в доме младшего брата философа, М.С.Соловьева, где царила атмосфера мистики Соловьева, его поэзии, как теургического завершения его учения о Софии-Премудрости.
Вот они, “Три свидания” — квинтэссенция космического откровения Владимира Соловьева, оказавшего столь сильное влияние на поэтов-символистов[vi]:
“Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почуешь трепетный напев…
Не веруя обманчивому миру
Под грубою корою вещества,
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье Божества…
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.
Пронизана лазурью золотистой,
В руках держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман…
И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
Что есть, что было, что грядет вовеки, —
Все обнял тут один недвижный взор…
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.
Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты…
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты”.
И опять космический поэсис, но как он отличен от первых двух, к счастью у него есть и название — “космософия” (или “софио-космизм”), получивший также развитие в поэзии, ибо что это как не Космософия (Премудрость Божия о мире), вдохновляющая поэта славословить красоту каждой былинки, каждой пичужки, завораживающий его мир сотворенной Красоты.
Космические перспективы в живописи
После небольшого экскурса в философию поэзии и первого начала различения, мы без труда найдем поэсис космизма в живописи. Обратимся к первым живописным произведениям христианской Руси — храмовой росписи и иконе, чтобы не идти слишком далеко в глубь веков к живописному закреплению культа одушевленной природы в украшении святилищ, жилища и домашней утвари.
Христианский храм в древности, пишет Г.С.Островский, это не только “священное писание для неграмотных”, переведенное на язык наглядных, красочных образов, но это “целая система мироздания, исполненная для людей того времени большого смысла и значения”[vii]. Таков Софийский собор в Киеве, созданный по образцу храма “Святой Софии” в Константинополе. Своды, стены, купол, столбы, хоры, лестничные переходы покрыты мозаичными картинами и византийскими фресками, на которых изображен персонифицированный духовный мир христианства, взывающий к душе молящегося через сдержанно-суровые лики Архангелов, Апостолов, Евангелистов, отцов Церкви, святых воинов. В потоках света, льющихся из окон купола, переливаются серо-фиолетовые, зеленые, желтые, синие, голубоватые тона, создавая неповторимую атмосферу отстраненности от суетности здешнего мира, за которой следует гармонизация малого космоса человеческой души с Космосом мира Небесного.
Вместе с Византийским храмом пришла на Русь и икона, живописная летопись христианской веры.
Руководитель иконописной мастерской В.А.Криворотов в статье “Космизм и икона” пишет о поэсисе “многомерного космизма”[viii] иконы, понять который можно только рассмотрев как она пишется. Прежде всего иконописец это не простой ремесленник, он — духовидец, и чтобы стать таковым ему требуется многодневная подготовка: ограничение мирской деятельности и пост — настройка ума; раскаяние в греховности своей жизни — настройка души; непрестанная молитва — настройка духа. Лишь после того как все “системы иконописца настроены” и он полностью нейтрализовал свое “я”, лишь тогда поэсис духовного мира открывается его душе, а сам “он становится его инструментом в процессе писания иконы”. Иконописец поэтому никогда и не мыслит себя ее творцом, и для христианина икона не просто картина, а проводник, канал в мир духовный, являющийся “носителем принципа совершенства и гармонии”, или космос духовный.
Для того чтобы войти во взаимодействие с этим духовным космосом, также необходима настройка уже со стороны человека ее воспринимающего. Приведем свидетельство все того же В.А.Криворотова. Если человек стоит перед иконой, и молитва его становится все более искренней, а это означает, что в молитву включается не только рассудок, но и сердце, то наступает “момент просветления, в котором образ, воспринимаемый глазом, оживает”[ix]. Этот образ представляется молящемуся бесконечно живым, он раскрывается в множестве своих граней, каждая из которых красочно звучит и оставляет в душе глубокий след. В этот момент сознание переходит из трехмерного мироощущения в многомерное, актуализируется “многомерное мироощущение”, сознание человека достигает “космичности в своем расширении”.
Икона это всегда символ — отображение мира духовного в мире явленном, через сюжетную канву пришедшую из Библии, Евангелия, Житийной литературы, где все технические приемы подчинены главному (канону) — духовному вхождению в образ. Здесь и символика цвета (например, Георгий Победоносец в алом плаще — цвет мученичества, и на белом коне — цвет праведности и целомудрия), и изображение разновременных событий, и совмещение разных пространственных построений (соседство “мира заоблачного”, природы вокруг храма, и внутренний интерьер храма), и градация размеров фигур по их значимости, а не по удаленности, и все это написанное в одной плоскости каким-то странным образом наступает на зрителя, смотрит ему в глаза.
Этой “странности” поэсиса иконы, как научной проблеме, посвящены книги Б.В.Раушенбаха[x], в которых он поставил вопрос о различии перспективных построений в древнерусской живописи и в живописи эпохи Возрождения, столь привычной для нас. Прямая перспектива “уходит” от нас куда-то вдаль, теряется в бесконечности, при этом ближние предметы загораживают дальние; “обратная перспектива” иконы сходится в зрителе, в каком бы месте храма он ни стоял, боковые стенки предметов разворачиваются к нам, неся дополнительную информацию. Давая математическую интерпретацию особой информативности иконы, Раушенбах пишет о том, что стоявшая перед средневековым живописцем задача одновременного показа событий, происходящих “в реальном трехмерном мире и в мире мистическом, тоже трехмерном”, тесно друг с другом взаимодействующими, означает необходимость изображения “четырехмерного пространства”, лишь формальные свойства которого описаны в современной геометрии, а само представление его наталкивается на непреодолимые трудности[xi].
От многомерного космизма иконы перейдем к космизму картины, которые отличаются друг от друга тем, что икона — это окно в мир духовный, а картина — окно в мир душевный, мир человека, его чувств, переживаний, восприятий (например, восприятие природных ландшафтов или морских стихий). На смену поэсису многомерного “теокосмизма” иконы пришел поэсис трехмерного “антропокосмизма” картины, продержавшейся в этом живописном жанре вплоть до рубежа XX века, ибо почему не назвать космосом души портреты таких знаменитых портретистов как Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский, О.Кипренский, В.Тропинин и И.Крамской и др. А как мы можем отказать в названии “космоса” картинам народного быта, например, А.Веницианова, или лирическим пейзажам родного края на полотнах А.Саврасова, В.Поленова, И.Шишкина и т.д. и т.п.
Обратимся к искусству XX века, к художникам, которых Ю.В.Линник, написавший докторскую диссертацию об эстетическом отношении к космосу[xii], называет “первыми в нашей стране художниками-космистами”[xiii]. Это художественная группа “Амаравелла”, шесть художников: П.П.Фатеев, Б.А.Смирнов-Русецкий, В.Н.Пшесецкая, А.П.Сардан, С.И.Шиголев, В.Т.Черноволенко, выразивших свое творческое кредо в манифесте.
Приведем из него несколько строк: “Наше творчество, интуитивное по преимуществу, направлено на раскрытие различных аспектов Космоса — в человеческих обликах, в пейзаже и в отображении абстрактных образов внутреннего мира”. Как и в иконе “элемент технического оформления является второстепенным”, как и в иконе восприятие их картин должно идти “путем вчувствования и внутреннего сопереживания”. Такова заявка, но какой разительный контраст с иконой представляют сине-черные с оранжевыми всполохами подтеки композиций Смирнова-Русецкого и Шиголева, или сине-зелено-желтые хаотически нагроможденные плоскости у Фатеева, и лишь многослойность в картинах Черноволенко и Сардана прорывается сквозь эту отчайно тянущуюся расплывчатость псевдофигур и сплетений в пространстве двух измерений.
Г.Флоровский пишет об этой “космической истоме”, об этих соблазнах “космических ритмов” и хаотической “невнятицы бытия” как типичном переживании в кругах творческой интеллигенции начала века. “Все грани как-то странно разлиты, точно само бытие имеет какое-то клубящееся, клочковатое строение” — таково ощущение Флоровского[xiv] этого надвигающегося “космического соблазна”, вскрывающего “худшие бездны” мира. И здесь, конечно, поэсис космичности имеет прямо противоположный смысл по сравнению, скажем, с “духовным космосом” иконы В.А.Криворотова.
На фоне различения двух поэсисов космичности и стоящих за ними диаметрально противоположных бытийных оснований, попробуем вслушаться в дух слов Фатеева в заметке “О супрематизме К.Малевича” (1917 г.): «Новая музыка, поэзия, философия, последние по времени течения живописи: кубизм, футуризм, супрематизм, индийские йоги, теософы, последние данные науки — все проходит под знаком того, что может быть названо Новым Космическим сознанием”[xv]. “Линия духовной преемственности”, пишет Ю.В.Линник, связывает ее с М.К.Чюрленисом, А.Н.Скрябиным, В.В.Кандинским, Н.К.Рерихом, которые (трое последних) в свою очередь возводят ее к основательнице теософского общества Е.П.Блаватской.
Выражение Рериха “расширение сознания” стало программным для членов “Амаравелла”, как многоплановая задача[xvi]:
Расширять сознание значит — преодолевать геоцентризм, вырабатывать у себя космическую точку зрения; смотреть в глубину явлений, прозревая планы и уровни, скрытые под непроницаемой оболочкой вещества; продолжать причинно-следственные цепи далеко за грань эмпирически доступного, уводить эти цепи в космическую бесконечность, а не обрывать их у предельной черты нашего физического существования; преодолевать разрозненность в работе наших чувств; видя звуки и слыша краски, осуществлять синтез двух каналов восприятия, значит быть готовым к новизне научных и художественных истин, которые часто приходят к форме настолько ошеломляющих парадоксов, что их содержание оказывается абсолютно несовместимым с привычным опытом, и тогда остается одно — взорвать эти рамки, решительно раздвинуть их до бесконечности.
Какая экспрессия, как она напоминает по духу концовку поэмы Волошина.
Человек дерзает сам без Бога стать властелином мира, его демиургом (устроителем), — это то, что мы назвали “демиургическим антропокосмизмом”, который необходимо отличать и от “христианского теокосмизма” иконы, и от “христианского антропокосмизма” картин XVIII-XIX в., эпохи классической живописи. Ибо и иконописец В.А.Криворотов говорит о “расширении сознания до уровня более полного и глубокого осмысления бытия”, о том что “сознание человека должно достичь космичности в своем расширении, как бы стать над миром”[xvii]. Но в одном случае призыв взорвать рамки, раздвинуть их до “космической бесконечности”, проникнуть под оболочку вещества, в другом — “приведение в гармоничное состояние” по правилам уходящим в глубь тысячелетней христианской культуры, чтобы узреть реальность “многомерного космоса”, стать над миром.
Перед нами раскрывается здесь как бы новая грань видения: поэсис космизма это не только представление о мире во всей его целостности, а и жизнедействие в этом мире, выхождение за пределы самозамкнутости ограниченного человеческого существования в мир “другого”. Если в теокосмизме иконы этим другим как цели существования может быть только Бог, то в демиургическом антропокосмизме и Волошина, и художественной группы “Амаравелла”, в мифологеме которых нет более места воли Божией, призывающей человека к себе как идеалу “восхождения”, выход за пределы ограниченного человеческого “я” сохраняется как бы по инерции как расширение сознания человека до уровня “космического”. Перед нами два вида “трансцендирования”: с одной стороны — восхождение через икону от образа к его первообразу с благодатным преображением всего состава человека; с другой — выход за пределы форм эмпирического плана в космическую бесконечность, в мир духов (видение которого для человека, по учению святителя Игнатия Брянчанинова, “весьма опасно”[xviii]). Укрепившись в этом возникшем понимании многогранного поэсиса космоса, перейдем к музыке и попытаемся там отыскать характерные “космические гармонии”, повествующие об образе мира, которым руководствуется тот или иной созидающий их композитор.
Космические гармонии в музыке
Мы не будем повторять сложившуюся схему поиска космической темы в музыке, ибо мы, конечно, найдем и природный космизм (натурокосмизм) в дохристианских напевах, заклинаниях, плачах, балладах, гимнах, и христианский теокосмизм в церковной музыке, и антропокосмизм в русской музыке XIX в., в творчестве таких композиторов как М.И.Глинка, П.И.Чайковский, композиторов “Могучей кучки” и т.д. Попробуем разобраться в творчестве двух композиторов рубежа веков: А.Н.Скрябина (1871–1915) и К.К.Сараджева (1900–1942). И если о Скрябине написано довольно много[xix], то о Сараджеве написана лишь одна тоненькая книжечка А.И.Цветаевой “Мастер волшебного звона”, но и ее достаточно, чтобы соприкоснуться со столь возвышенным поэсисом, о котором мы можем составить себе лишь умственное представление. Относительно Скрябина, духовное родство которого с “демиургическим антропокосмизмом” в живописи и в поэзии мало у кого вызовет в настоящее время особое сомнение: помимо процитированного Г.Флоровского и А.Ф.Лосева, в один голос утверждающих о “демонизме Скрябина”, как «обожествлении твари и зла”[xx], такие же обличающие характеристики, типа “сатанинское прельщение”, можно найти и в современных церковных изданиях[xxi].
Прежде всего у К.К.Сараджева был поразительнейший слух, он различал в октаве 1701 тонов, 243 звучания в каждой ноте (центральная и в обе стороны от нее по 121 “бемолю” и 121 “диезу”, тогда как современная европейская теория музыки имеет дело максимум с 24 звуками в октаве), — абсолютный слух в полном смысле этого слова. Для него существовал огромный мир звуков, нам недоступный; о себе он говорил: “Я сознаю, что мое это умение есть, а также и будет очень долгое время исключением”[xxii]. Конечно никакое фортепьяно не способно было выразить всего многообразия его слышания, и лишь один инструмент оказался подходящим для него — это церковный колокол, а потому был он “Звонарь московский”, на колокольные “гармонизации” которого собирались все, кто хоть сколько-нибудь мог почувствовать с какой запредельностью они имеют дело. О других людях он говорил, что они “звучания не слышат, но то впечатление, которое получается от его колокольных гармонизаций, они отличают, потому-то они и ходят слушать мою игру в церкви святого Марона!”[xxiii]. Сам он мог “слышать тональности окружающих” людей, предметов, комнаты, которым он тут же давал определение, так Марину Цветаеву он назвал “Ми семнадцать бемолей минор”, и очень удивлялся, что другие этого не слышат.
Более того, Сараджев слышал звук данного цвета, и в одном эксперименте, проводимом с большим интервалом времени, дважды дал идентичные тональные описания цветовых лент. При сопоставлении его таблицы с цвето-тональными ассоциациями А.Н.Скрябина, Н.А.Римского-Корсакова, Б.В.Астафьева обращает на себя внимание тот факт, что у всех троих присутствует какая-то произвольность, чистая субъективность ассоциаций, тогда как у Сараджева поражает полнота и научно-четкий стиль определений, ибо при неспособности различать, мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить его таблицу соответствий звука и цвета.
Сохранились некоторые листки из рукописи книги К.К.Сараджева “Музыка-колокол”, поэсисом космоса которого является “гармонизация”; приведем особенно важные для нашего понимания места[xxiv]:
“Гармонизация является совокупностью того, что в области экзотерической теории музыки называется ритмом, темпом, оттенками, гармонией, контрапунктом и инструментовкой.
Каждая форма, представление, понятие имеет свою гармонию — индивидуальную и только одну. Гармонизация — это тот же закон бытия, по которому созданы все музыкальные формы.
Так как гармонизаций бесконечное число, то и форм бесконечное число. Например: облик данного человека есть форма в индивидуальной гармонизации. Вообще облик человека есть форма гармонизации человека.
Истинный слух. Кроме абсолютного слуха существует — выше его — истинный слух. Это способность слышать всем своим существом — звук, издаваемый не только предметом колеблющимся, но вообще всякой вещью. Звук кристаллов, камней, металлов. Пифагор, по словам своих учеников, обладал истинным слухом и владел звуковым ключом к раскрытию тайн живой природы.
Каждый драгоценный камень имеет, например, свою индивидуальную тональность и имеет как раз такой цвет, какой соответствует данному строю. Да, каждая вещь, каждое живое существо Земли и космоса звучит и имеет определенный, свой собственный тон… (как и) тон данного человека, его полная индивидуальная гармонизация”.
Сараджев пишет, что надо принять пока на веру эти тверждения, они оправдаются в том будущем человечества, которое как он считает непременно придет, когда люди будут обладать его способностями — не как исключение, а как радостное правило совершенства музыкального слуха.
В рукописи “Мое музыкальное мировоззрение” К.К.Сараджев, как бы продолжает начатую тему. Он пишет, что его музыкальное мировоззрение есть “музыкальный взгляд на абсолютно все, что есть”[xxv]. Поэтому “тон” в колокольной музыке не есть просто определенный звук, а как бы живое огненное ядро звука, содержащее в себе безграничную массу, определенную, основную симфоническую картину, так называемую “тональную гармонизацию”. Особенно интересно для нас следующее свидетельство К.К.Сараджева[xxvi]:
“С самого раннего детства я слишком сильно, остро воспринимал музыкальные произведения, сочетания тонов, порядка последовательностей этих сочетаний и гармоний. Я различал в природе значительно, несравненно больше звучаний, чем другие: как море сравнительно с несколькими каплями. Много больше, чем абсолютный слух слышит в обычной музыке! Передо мной, окружая меня, стояла колоссальная масса тонов, поражая меня своей величественностью, и масса эта была центр звукового огненного ядра, выпускающего из себя во все стороны лучи звуков. Все это, иными словами, было как бы корень, имеющий над собой нечто вроде одноствольного древа с пышной, широкой кроной, которая рождала из себя вновь и вновь массу звучаний в разрастающемся порядке. И сила этих звучаний в их сложнейших сочетаниях не сравнима ни в какой мере ни с одним из инструментов — только колокол в своей звуковой атмосфере может выразить хотя бы часть величественной мощи, которая будет доступна человеческому слуху в Будущем. Будет! Я в этом совершенно уверен…”.
Такова удивительная мощность поэсиса К.К.Сараджева, сравнимая, быть может, с переживанием Владимира Соловьева его Софии. Скрябин лишь на шаг приблизился к уровню понимания Константина Сараджева. Это впрочем как-то чувствовали и его собратья по гармони, о композициях Сараджева один музыкант сказал, что они отдаленно перекликаются со Скрябиным, но без его диссонансов. Композитор В.В.Серых отмечала у Сараджева полную отрешенность от чувственности в музыке:
“Созерцательность. Какая гармония! Со Скрябиным, если и можно найти сходство, то только внешнее, фактурное. Нет обостренности, экзальтированности Скрябина. Чистая созерцательная сфера…”[xxvii].
В лице Константина Сараджева перед нами абсолютно новое проявление поэсиса космоса, которому у нас пока нет определения в ряду наших “космизмов”, единственно, что нам представляется сейчас уместным – это назвать данный космизм богочеловеческим — “Богочеловеческий космизм”. Просится еще одна параллель “истинного слуха” К.К.Сараджева с учением об “объективном и субъективном искусстве”, изложенным в 1915 г. в одной из московских эзотерических школ, которую стал посещать и П.Д.Успенский — известный к тому времени писатель, автор обобщающего труда, описывающего западный и восточный опыт преодоления парадигмы трехмерности[xxviii]. Свое восприятие идей Г.И.Гурджиева об “объективном знании” и “объективном искусстве”, а также свои отношения с ним, как “ученика с учителем”, Успенский позднее описал в книге “В поисках чудесного”.
Пересказывая беседы с Гурджиевым об “объективном искусстве”, Успенский[xxix] пишет, что в подлинном искусстве нет ничего случайного, в нем все четко определено как по том,у что изображено, так и по степени воздействия на зрителя. В нем все можно вычислить, все можно знать заранее: это математика (в наши дни эти идеи как бы возрождает афганский доктор наук Сидик Афгани под названием “математическая философия”). Художник знает и понимает, что ему нужно передать, и его работа с математической точностью производит одно и то же впечатление на разных людей, конечно, при условии, что оба они одного уровня; тогда как у людей разного уровня это же произведение вызовет различные впечатления, которые художник заранее программирует. Это истинное, объективное искусство, подобно какому-нибудь научному труду по астрономии или химии, который любой достаточно подготовленный человек понимает однозначно, за исключением того что оно действует и на эмоциональную сторону человека, а не только на интеллект. Примерами произведений объективного искусства являются большой египетский сфинкс, некоторые известные из истории храмы, некоторые статуи богов и различных мифологических существ, которые можно читать как книги, но не умом, а эмоциями, которые должны быть достаточно развиты.
От себя добавим, что колокольные гармонизации К.К.Сараджева, по-видимому, были произведениями такого истинного, объективного поэсиса, ибо производили на всех одинаковое неизгладимое впечатление чего-то “божественного”. Древнерусские иконы также, по-видимому, относятся к этому разряду.
Феномен К.К.Сараджева и его музыкальный взгляд на все перекликается еще с одной из сторон учения Гурджиева, связанной с так называемым “законом октав”, или “законом семи”. Закон октав — это фундаментальный закон вселенной, где “гамма семи тонов есть формула космического закона, примененная к музыке”[xxx]. Чтобы осознать этот закон, необходимо рассматривать “вселенную как состоящую из вибраций” или колебаний, происходящих во всех видах, аспектах и уровнях материи (для Сараджева эти колебания любого предмета воспринимались как звуковые индивидуальные гармонизации). Закон октав основан на делении периода удвоения вибраций на восемь неравных частей, связанном с неравномерностью возрастания вибраций для разных “ступеней” (нот октавы). Этот закон одинаков и для звуковых колебаний (на наблюдении которого была получена музыкальная гамма семи тонов), и для света (цветовая шкала), и для любых других колебаний (например, в химии — периодическая система элементов).
Поясняя закон октав на примере музыкальной гаммы, Успенский пишет, что различные процессы не могут развиваться все время с одинаковой интенсивностью, ибо существуют периоды замедления развития и отклонения от выбранного направления, как это имеет место и в музыкальной гамме между нотами “ми-фа” и “си-до”, где интервал составляет полутон — замедление роста вибраций. И такой ход событий, связанный с переменой направления, Успенский усматривает буквально во всем: в литературе, науке, философии, в религии, в индивидуальной и общественной жизни. Например, в политике можно наблюдать, как линия развития сил отклоняется от первоначального направления и спустя некоторое время идет в противоположном направлении, сохраняя за собой прежнее название. Вычленяя в законе октав основные положения, Успенский[xxxi] отмечает: 1) принцип отклонения сил; 2) принцип движения — все или развивается (движется по восходящей линии октав), или ослабевает и вырождается (нисходящая линия); 3) принцип периодических флуктуаций на любой линии развития.
Перед нами здесь предстает еще одна из сторон космизма, один из ее мотивов, характеризуемый фундаментальностью космических законов, справедливых как для искусства, так и для науки. Как следствие этой фундаментальности законов, находящей отражение во всех сферах жизнедеятельности человека, возникают удивительные параллели, связывающие искусство и науку, когда искусство “объективируется”, преодолевая субъективизм индивидуальности, а наука от абстрактных моделей переходит к живой ткани реального мира. Однако в рамках академической науки пока делаются лишь первые шаги поиска фундаментальных закономерностей поэсиса космоса, позволяющих безошибочно определять уровень и качество различных произведений искусства. Примечательна в этом смысле, например, книга А.В.Волошинова “Математика и искусство”, в которой вводятся критерии прекрасного: “симметрия, пропорция и гармония”, допускающие адекватное выражение на языке математики[xxxii]. Многообразию проявлений “гармонии как закономерности природы” посвящена и совместная работа И.Ш.Шевелева, М.А.Марутаева и И.П.Шмелева “Золотое сечение”[xxxiii], поставивших перед собой задачу исследования математической природы гармонии в естествознании и различных объектах искусства и зодчества.
Наиболее интересным в плане поиска математического описания поэсиса законов формообразования в живой и неживой природе являются для нас в этой связи работы “композитора и исследователя гармонии в природе” М.А.Марутаева, пытающегося найти ритмические закономерности “качественной симметрии” музыкального звукоряда, элементов таблицы Менделеева и планетных расстояний, как некоего универсального закона, допускающего математическое описание[xxxiv]. “Гармонизация как закон бытия” из области интуитивных прозрений сверхординарной личности К.К.Сараджева в исследованиях Марутаева начинает обретать осязаемые черты “законов гармонии” поэсиса как числовых характеристик соотношения “части и целого”. При таком подходе любое явление рассматривается в его целостности, поскольку научный анализ связан не с расчленением целостного объекта на отдельные части и последовательным их изучением, что допустимо лишь для механических систем неживой природы, а в своей основе исходит из принципиальной неотделимости части от целого, характерной для живых организмов. В качестве стратегии здесь предлагается “геометрическое исследование формообразования”, выявление “пространственных характеристик структур”, где “энергия, сконцентрированная в некоторой области пространства, понимается как само пространство”[xxxv].
Эстетические критерии поэсиса “гармоничности”, по-видимому, со временем должны быть в полной мере “математизированы” и выделены критерии в градациях формообразующих констант различных космизмов, сопоставимых, быть может, с фундаментальными физическими постоянными. Другая сторона вопроса связана с проблемой научного анализа этических характеристик различных космизмов (например, противопоставления теокосмизма и демиургокосмизма), которые могут быть выделены лишь на пути фиксации мировоззренческих горизонтов естественнонаучного антропокосмизма во всем культурном контексте.
В силу различия в понимании поэсиса космоса и его формообразующих принципов сам термин космизм не может быть использован без определяющей его приставки типа “тео-”, “софио-” или “антропо-” космизм, трансцендирующей горизонт бытия соответствующего космизма в качестве целеполагающего космософийного идеала. В.В.Зеньковский пишет о космософийном базисе “светлого космизма”, столь глубоко свойственного христианству и не угасшем лишь в Православии[xxxvi]. Не пантеизм, уточняет Зеньковский, а именно “космизм, как утверждение подлинной — хотя и не самобытной — реальности мира в Боге”, тот “первичный космизм, который был изначально присущ христианству”[xxxvii] и, добавим от себя, на космософийные искания которого направлен многогранный поэсис русского космизма.
———————————————————————————
[i] Я связь миров: Философская лирика русских поэтов XVIII—начала XX века /Сост., вступит. ст. В.М.Фалеева. М, 1989. С. 6. [ii] Там же. С. 50. [iii] Цит. по: Волошин М.А. Избранные стихотворения /Сост., вступит. ст. и примеч. А.В.Лаврова. М., 1988. С. 286. [iv] Сопоставление “медитативно философских” мотивов поэтов-любомудров (Д.В.Веневитинова, А.С.Хомякова, С.П.Шевырева), А.С.Пушкина и Ф.И.Тютчева см., например: Маймин Е.А. Русская философская поэзия. М.: Наука, 1976. [v] Волошин М.А. Избранные стихотворения. С. 5. [vi] Цит. по: Соловьев Вл. “Неподвижно лишь солнце любви…”: Стихотворения, проза, письма, воспоминания современников. М., 1990. С. 449. [vii] Островский Г.С. Рассказ о русской живописи. М.:, 1989. С. 8. [viii] Криворотов В.А. Космизм и икона // Русский космизм и Ноосфера. М., 1988. Ч. 1. С. 188. [ix] Там же. С. 189. [x] См., например: Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975; Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. М., 1980; Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. М., 1986. [xi] Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975. С. 90, 92. [xii] Линник Ю.В. Эстетика Космоса: Автореф. дис… д-ра филос. наук /МГУ им. М.В.Ломоносова. М., 1988. [xiii] Линник Ю.В. Амаравелла. Петрозаводск: Карелия, 1989. С. 4. [xiv] Флоровский Г.В. Пути русского богословия (Репринтное воспроизведение издания. Париж, 1937). Вильнюс, 1991. С. 486. [xv] Цит. по: Линник Ю.В. Амаравелла. Петрозаводск, 1989. С.5. [xvi] Там же. С. 6. [xvii] Криворотов В.А. Космизм и икона // Русский космизм и Ноосфера. М., 1988. Ч. 1. С. 187. [xviii] Брянчанинов И. Слово о чувственном и духовном видении духов // Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова: Репринт. изд. 1905 г., СПб. Т. 3. М.: “P.S.”, 1991. С. 19. [xix] См., например, обширную библиографию в книге: Рубцова В.В. Александр Николаевич Скрябин. М.: Музыка, 1989. [xx] Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. Литературные размышления философа. М., 1991. С. 289-300. [xxi] Россия перед вторым пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. М., 1993. С. 289. [xxii] Цветаева А.И., Сараджев Н.К. Мастер волшебного звона. М, 1988. С. 40. [xxiii] Там же. С. 15. [xxiv] Там же. С. 71. [xxv] Цит. по: Цветаева А.И., Сараджев Н.К. Мастер волшебного звона. С. 74. [xxvi] Там же. С. 75. [xxvii] Там же. С. 67. [xxviii] Успенский П.Д. Tertium Organum: Ключ к загадкам мiра: Репринтн. воспроизведение изд. 1911 г. СПб.: Андреев и сыновья, 1992. [xxix] Успенский П.Д. В поисках чудесного. СПб.:, 1992. С. 32. [xxx] Там же. С. 145. [xxxi] Там же. С. 151. [xxxii] Волошинов А.В. Математика и искусство. М.:, 1992. [xxxiii] Шевелев И.Ш., Марутаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение: Три взгляда на природу гармонии. М, 1990. С. 343. [xxxiv] Марутаев М.А. О гармонии как закономерности // Принцип симметрии. М., 1978. С. 363-395. [xxxv] Шевелев И.Ш., Марутаев М.А., Шмелев И.П. Золотое сечение: Три взгляда на природу гармонии. М, 1990. С. 59. [xxxvi] Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М., 1992. С. 170. [xxxvii]Там же. С.
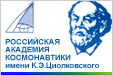
Написать ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.